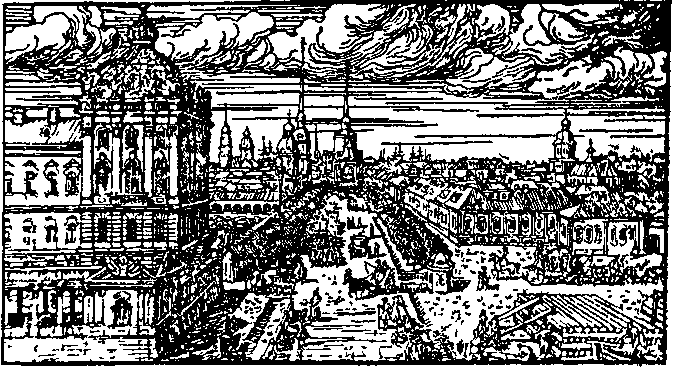
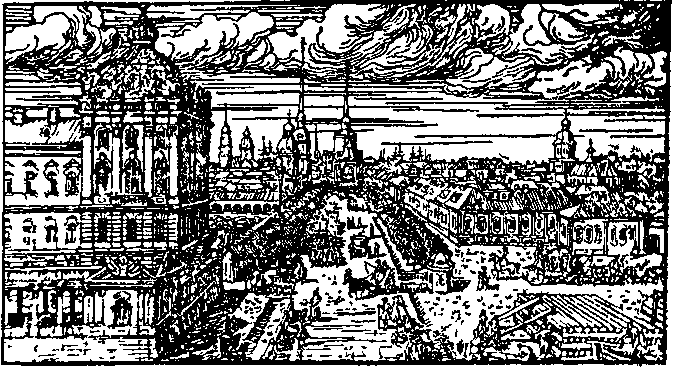

…Как раз в этой местности, где мы с вами находимся, совсем еще недавно обитали исключительно литорины, брюхоногие моллюски. Их было страшно много, и море, в котором они обитали, называлось Литориновое. В Египте – Среднее царство, одиннадцатая династия, пирамиды уже стояли, их уже заносило песком; в Вавилоне создавалась бюрократическая письменность, и головы слетали с плеч, словно капустные кочаны... А тут, у нас, било в берега пустынное море. Четыре с половиной тысячи лет назад оно отступило, дно поднялось на каких-то 2-3 метра, образовалась какая-то очень еще жидкая суша, и первый раз на нее глянуло солнце. Насколько мне известно, это самый молодой кусок суши на нашей планете.
Долгое время он был почти необитаем этот жалкий клочок суши, из-за которого в течение ряда столетий велись войны, совершенно как в «Гамлете» Шекспира. А потом это странное пространство досталось во власть и в собственность человеку, параноически одержимому идеей всемогущества человеческого ума: тоже странное обстоятельство. И этот человек, Петр Великий, обращался с ним, с пространством как мальчик, перед которым стол и кубики – можно строить все, что хочешь.
И он построил тут столицу – странную столицу, не похожую на свою страну. Если Лондон – олицетворение Англии, а Париж – сердце Франции, и Париж – самый французский город, а Лондон – самый английский, то Санкт-Петербург оказался самым нерусским городом в России: это город, построенный абсолютно по другим принципам, у него другая архитектура, другое население, другой способ жить, другое самочувствие, другие манеры, другое произношение – вся страна, называет его жителей «петербургцы», а они называют себя «петербуржцами», и даже в этом микроскопическом различии заключается бездна.
Этот город стал как бы чудовищным фурункулом, стянувшим к себе всю бюрократию страны, всю силу власти, но одновременно всю литературу и культуру. Затем в нем произошли катаклизмы, известные под названием трех революции, а потом он стал бывшей столицей– репрессированной, опальной, нелюбимо-ненавидимой; затем его постигло чудовищное бедствие в годы войны, тоже небывалое в истории.
Население Петербурга всегда было непостоянным. Если можно себе представить москвича в десятом или одиннадцатом поколении, или саратовца, или иркутчанина, то здесь это невозможно хотя бы потому, что город существует на протяжении всего девяти или десяти поколений (если поколение – 30 лет). И, кроме того, здесь не живут из поколения в поколение – сюда приезжали и уезжали, был отлив и прилив. На протяжении XVIII–XIX веков население города на три четверти состояло из всяких пришлых людей, которые летом уходили на сезонные работы, а осенью возвращались – извозчиками, официантами в трактиры, строительными рабочими. Поэтому здесь всегда было больше мужчин, чем женщин – примерно 3 к 1. Поэтому здесь всегда заключалось наименьшее количество браков, чем по всей стране. Исследователь пишет: «вообще трудно найти другой город, где так мало бы замечалось среди жителей матримониальных устремлений, как в Петербурге».
Мы не знаем почти ни одного крупного русского писателя (до Блока), который бы здесь родился. Сюда приезжали, получив образование в других местностях, и становились петербуржцами. Даже самые петербургские люди – герои романов Достоевского, даже они откуда-нибудь приехали, чтобы поступить в университет или на службу. Люди приезжали сюда, а потом здесь умирали. И так было на протяжении всего XIX века, причем тогда уже делались попытки объяснить характер петербургского человека вот этим – что он чужой: он сюда приехал и он отсюда уедет, он здесь не живет, этот город не для него. И в частности про ипохондрию, черту типически петербургскую, говорилось так: «В Петербурге, где большая часть населения составлена из людей, проводивших первые лета юности или за границей или внутри России – ипохондрия почти обыкновенная болезнь. Воспоминания о родине, сердечные утраты, обманутые надежды, так долго услаждавшие нас, разочарования в наслаждениях удовольствиями жизни превращают в ипохондриков людей, даже не показывавших признаков болезни, которая при геморроидальных припадках еще более усиливается».
…Но что же тогда связывает нас с восьмью или девятью поколениями тех, кто жил и умер в этом городе, удобрил его своими костями, наполнил его своим дыханием и делами своих рук?
По всей видимости, это – архитектура, литература и мир названий.
С архитектурой дело обстоит, как мне кажется, следующим образом. Нет, наверное, более высокого и прекрасного момента в жизни, чем когда минутку удается постоять одному на Неве или, скажем, на Дворцовом мосту, – и отовсюду вас охватывает бесконечно стройное, бесконечно гармонизированное пространство. Эту минуту, или похожую на нее, описал Достоевский в романе «Преступление и наказание», когда Раскольников стоит на Николаевском мосту.
Эта минута – очень странная. Вы действительно чувствуете, что жизнь как бы имеет смысл. Река и эта дивная, разнообразно странная архитектура – они уравновешены. Вас не подавляют эти здания, потому что они по сравнению с рекой недостаточно велики, но вместе с тем они не кажутся крошечными, потому что они гораздо больше вас. Видимо, в этом летучем соотношении (здесь еще как вы знаете, участвует свет) вас охватывает прекрасное чувство, которое является мечтой, ну какого-нибудь Шеллинга, что ли. Вы находитесь внутри художественного, произведения. Это ситуация, которая заслуживает философского осмысления. Вы находитесь как бы внутри картины или, может быть, на огромной сцене пустого театра, где так замечательно нарисованы декорации. А вы – рабочий сцены. Это город не для вас, вы в нем не живете, в нем невозможно жить, им можно только любоваться. Зимний дворец, Биржа, Дворцовая площадь, Сенатская – все это для зрителей, не для жителей. Говорят, что никогда наш город не был так красив, как в разруху 20-х годов и как сразу после блокады. Чем безлюднее, тем лучше. Он вообще не рассчитан на эти массы населения. Когда идешь белой ночью в четыре часа, это очень заметно.
Обе стороны канала Грибоедова, Фонтанка, все эти районы так называемою центра – совсем другой слой каменного времени, но столь же необыкновенный. Вы можете, спеша по делу или гуляючи, внезапно поднять глаза и увидеть, что стоите рядом с домом, на который потрачена масса сил; масса художественной воли излучается на вас – архитектор старался, он изукрасил фасад какими-то лопатками, рустами, тягами, наличниками, маскаронами, картушами, волютами – все это красиво, но прохожий, проезжий, как правило, не видит этого, потому что здания поставлены таким образом, так пригнаны к красной линии, так вогнаны в плоскость, что вы не смотрите на них, – это не здания, которыми любуются, но вместе с тем это и не здания, в которых живут. Потому что когда вы входите в ворота, вас встречает двор, где все окна смотрят друг на друга и вниз: черные лестницы, парадные лестницы; квартиры, которые собраны из каких-то причудливых, неудобных, странно прилаженных друг к другу комнат, тьма, дурные запахи, какие-то гулкие звуки. И тут, вы замечаете, что эта архитектура отражает, может быть, даже какие-то стороны национального характера или нашего представления о частной инициативе.
Когда говорят, что вот-де наступление капитализма породило всю эту эклектическую архитектуру, то ведь это очень странный капитализм. В любом европейском городке вы можете увидеть другие примеры – в Таллинне, в Риге. Там тоже наступал капитализм. И вот человек, разбогатев, строил дом: для себя. Он себя с этим домом отождествлял, ему хотелось в этом доме жить. Этот дом должен был отражать его потребности, привычки, вкусы, интересы. Ничего подобного здесь не происходит, таких домов здесь нет. Даже в девятнадцатом веке почти все население этого города проживало на чужой площади. Снимали угол в комнате, комнату в квартире, квартиру в доме, и были какие-то странные люди – домовладельцы (ничтожное меньшинство), которые строили дома, чтобы сразу их сдавать. Таким образом, получается, что вся эта архитектура, которая занимает основной массив старого города, она не для оседлого человека, она не имеет его в виду.
Но сама она на нас смотрит. Мы все время находимся в фокусе излучаемой на нас творческой воли. Это можно иногда почти физически чувствовать. Эта архитектура – тут уже не поймешь, красивая или уродливая – архитектура фасадов.
Кроме того, сегодня она выглядит не такой, какой задумывалась. Эти здания в центре города были эмблематическими постройками, нечто знаменовавшими: морскую мощь, как Адмиралтейство, воинскую мощь, как Петропавловская крепость, пышность и изобилие государства, как Зимний дворец, союз свободных искусств, как Александринский театр. Они все приподнимались, на цыпочки и что-нибудь знаменовали. Но получилось так, что три фактора изменили город, и сейчас он выглядит не таким, как задумывался. Эти факторы следующие.
Первый: болотистая почва, в которую уходят метра на полтора, а кое-где и на два эти здания – они стали ниже ростом. Вы можете посмотреть на старинных гравюрах, как выглядит какой-нибудь Строгановский дворец: он огромный, он высится на берегу Мойки, он подавляет, а сейчас стал такой маленький. Это касается очень многих зданий, все мы видим эти первые этажи, утопленные в асфальт. Земля поднимается, потому что на ней нарастают наши кости, строительный мусор, остатки нашей жизни. Земля поднимается, дома уходят.
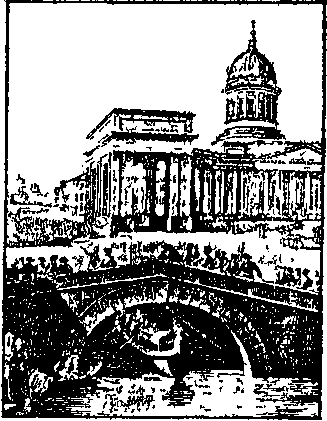 Второй фактор – это растущие деревья. Они очень многое погубили, почти все,
о чем мечтал, в частности, Росси: этот первоначальный импульс осмысленной
прямоугольности, концепция, что все на свете поддается математическому
измерению, что прямые линии, параллельные друг другу не перекрещиваются нигде.
Эта концепция, этот; импульс воли, данный Петром, дошел до Росси, который был
гениальный строитель заборов. Сами, здания его не так замечательны, чтобы
взгляда не оторвать. Это замечательные, коринфского ордера заборы, это
невероятная способность оградить пространство; он мыслил площадями, был у него
этот дивный дар: мыслить площадями и безмерными пространствами. И на нем
иссякла эта творческая воля к прямоугольному, перпендикулярному, к
геометрическому мышлению. Росси, в котором не меньше, чем в композиторе
Глинке, приподнятого над землей торжественного оптимизма, Росси окончательно
погублен этой простой, чахлой ингерманландской растительностью. В частности,
таким образом совершенно погибла площадь перед Александринским театром. Вы
можете увидеть на акварелях Садовникова и на старинных гравюрах, что это была
величественная площадь, это было огромное пространство – и куда оно девалось?
Второй фактор – это растущие деревья. Они очень многое погубили, почти все,
о чем мечтал, в частности, Росси: этот первоначальный импульс осмысленной
прямоугольности, концепция, что все на свете поддается математическому
измерению, что прямые линии, параллельные друг другу не перекрещиваются нигде.
Эта концепция, этот; импульс воли, данный Петром, дошел до Росси, который был
гениальный строитель заборов. Сами, здания его не так замечательны, чтобы
взгляда не оторвать. Это замечательные, коринфского ордера заборы, это
невероятная способность оградить пространство; он мыслил площадями, был у него
этот дивный дар: мыслить площадями и безмерными пространствами. И на нем
иссякла эта творческая воля к прямоугольному, перпендикулярному, к
геометрическому мышлению. Росси, в котором не меньше, чем в композиторе
Глинке, приподнятого над землей торжественного оптимизма, Росси окончательно
погублен этой простой, чахлой ингерманландской растительностью. В частности,
таким образом совершенно погибла площадь перед Александринским театром. Вы
можете увидеть на акварелях Садовникова и на старинных гравюрах, что это была
величественная площадь, это было огромное пространство – и куда оно девалось?
...Человеческая глупость, и, в частности, глупость отцов города, тоже чрезвычайно изменила Петербург и превратила его в современный Ленинград. У нас есть общий предрассудок, что глупость – это слабость ума. Но это не так. На самом деле глупость гораздо сильнее ума. Это, собственно говоря, сила ума, сила его тяжести, что ли. Эта сила, метафизическая. Она коренится во внутреннем нежелании человека принять действительность, в нежелании считаться с нею. Ум вынужден отражать реальность, глупость не хочет отражать реальность до самого конца, хотя бы потому, что ситуация человека в этом мире совершенно ужасна, непоправима и трагична. И вот нежелание доходить до трагического понимания порождает глупость.
Глупость видоизменила наш город, и это ужасно заметно. Один из самых характерных примеров – дореволюционный, судьба Адмиралтейства. В 1874 году городская Дума приняла решение, что для озеленения, для свежего воздуха и вообще для красоты необходимо создать сад, который поскольку Александр II посадил там дубок, назвали Александровским (теперь он называется садом Трудящихся). В результате южный фасад Адмиралтейства на сегодняшний день, вообще не существует. Мы не можем судить, был ли Захаров, как некоторые считают гениальным архитектором или он был просто начальником чертежной мастерской, Адмиралтейство заслонено деревьями; за воротами, в глубине двора сверкает металлической краской статуя вроде бы Дзержинского – эффект не слабый, но вряд ли Захаров рассчитывал именно на него. И эта же Дума в этом же году отдала обывателям с торгов участки на набережной, и северный фасад Адмиралтейства, обращенный к Неве, тоже погиб. Вот здание – одно из лучших, как говорят специалисты, и вот его не существует, просто на наших глазах оно как бы ушло под землю.
Кстати, тот же Росси, который это прекрасно чувствовал, предлагал правительству замечательный проект устройства Адмиралтейской набережной с какими-то невероятными арками, с каналами, по которым будут ходить суда. Но к 1872 году принципы Росси уже не действовали, а была фасетчатость мышления: во-первых, тут сегодня нужен проезд, во-вторых, нужны деньги для того, чтобы этот проезд построить, а в-третьих, нужны зеленые насаждения.
Таким же образом обращались отцы города на протяжении всей истории Петербурга и со всем остальным. Число архитектурных сооружений, уничтоженных немецкими бомбежками и артиллерийскими налетами, навряд ли сопоставимо с теми десятками и десятками памятников, которые были снесены обыкновенными постановлениями Ленгорисполкома на наших глазах. Я лично был свидетелем многих преступлений такого рода: последнее из них – взрыв церкви Бориса и Глеба на Калашниковской набережной. Или вот была такая церковь – памятник в честь 300-летия дома Романовых. Понятно, Романовы была ненавистная династия, и можно было снести купол, ободрать мозаику, снять иконы и превратить храм в молочный завод – это ничего, как раз это допустимо, потому что горы злобы и ненависти, допустим, накопились у населения. Но ведь там какой-то человек, наверное, архитектор, вместо купола возвел, пренебрегая даже симметрией, слепой, оштукатуренный кубик – этому нет никаких объяснений.
Убитые здания, изувеченные здания, дряхлые и больные здания...
Вот дворец Бобринских на Красной улице. Отсюда тоже все куда-то выехали: там был факультет Университета, там были какие-то институты, студенческий театр под руководством В.С.Голикова ставил замечательные спектакли, и пока там студенты сидели на подоконниках, пока они писали свои телефоны и фамилии на стенках, пока там что-то происходило, и люди жили и дышали, это здание не выглядело мертвым. А сейчас – постойте возле него или обойдите его – за полчаса, что вы там пробудете, оно стремительно стареет, оно оплывает на ваших глазах, как снежная гора на солнце, оно уходит в землю, его не будет вот-вот, а ведь это 1790-е годы, это архитектор Руска, одно из замечательных строений усадебного типа в Петербурге. Погибает, и погибнет непременно.
Еще один дворец – на Мойке, почти у Пряжки – дворец великого князя Алексея Александровича (архитектор Месмахер). Еще несколько лет назад он как-то держался, потом выехало последнее учреждение. И вдруг он весь поник. Это было красивое, здание, уверяю вас, там были флюгера, решетки. Занятный такой игрушечный замок. А сейчас... Статуя, снятая с крыши стоит на помойке – не слабое зрелище. Я пришел и смотрел на нее, и вдруг из-за нее вылез какой-то прилично одетый человек, который, оказывается, за ней справлял нужду. Это ужасно странно, и все-таки это тоже Петербург: чтобы статуя была на помойке, и чтобы за ней кто-то занимался именно этим. И все это происходит на наших глазах. И это есть мучительная власть человеческой глупости, которая, безусловно, победит. Я вообще думаю, что рано или поздно глупость победит.
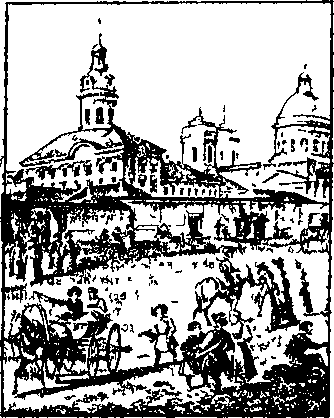 Мы все будем жить на проспектах Ветеранов и Наставников, а в домах в центре
города будут жить начальники, эти дома будут замечательно отремонтированы, а
здания старинной архитектуры будут разрушены, на этот счет у меня нет
сомнений. Но нам останется все-таки мир литературы и мир названий.
Мы все будем жить на проспектах Ветеранов и Наставников, а в домах в центре
города будут жить начальники, эти дома будут замечательно отремонтированы, а
здания старинной архитектуры будут разрушены, на этот счет у меня нет
сомнений. Но нам останется все-таки мир литературы и мир названий.
Ясно, что многие страницы нашей литературы не могли быть написаны ни в каком другом городе, и многие страницы невозможны без знания его – просто непонятны. Я даже не представляю себе, как читает Гоголя, или Достоевского, или Мандельштама человек, родившийся и живущий во Владивостоке. Ему эти писатели представляются совсем иными, не такими, как нам. Эти страницы для него облечены совсем иным смыслом. В этом отношении нам повезло. Мы связаны с миром классических литературных ассоциаций. Мы прописаны в романах Достоевского, в стихах Блока.
О названиях наших улиц, впрочем, скажу сейчас только одно: необходимо как можно скорей отменить одно-единственное постановление Ленгорисполкома от 15 декабря 1952 года – и это сразу вернет Ленинграду более 60 старинных названии. Их отмена, задуманная как подарок товарищу Сталину – это была такая акция, которая имела в виду как можно больше унизить репрессированную бывшую столицу. Горисполком в тот день подарил товарищу Сталину Калашниковскую набережную, Сенную и Калинкинскую, Воскресенскую площади, Геслеровский и Английский проспекты, Глазовскую, Горсткину, Новосильцевскую, Гагаринскую, Предтеченскую и множество других улиц, переулки Лештуков, Гусев, Демидов, Таиров, Мошков, Зубов, Усачев... Этот подарок необходимо отобрать, и как можно скорее, пока исторические названия еще живут в памяти горожан. А ведь забудутся...
...Когда однажды, много уже лет назад, на Литераторских мостках я случайно поскользнулся, разбил лужу каблуком и увидел под водой «Н. С. Лесков», я понял, что Лесков действительно существовал, что это не просто книжные переплеты. Когда теперь я вижу, что сейчас это не лужа, не доска, ушедшая в землю, а вполне приличное надгробье, – я-то знаю, что это неправда, что Лесков под этим надгробьем не лежит. Мне иногда представляется, будто на Волковском кладбище, на Литераторских мостках ночью разъезжают какие-нибудь скреперы и, готовясь к завтрашнему дню, тасуют надгробные плиты как визитные карточки, с таким расчетом, чтобы сатирики лежали в одном ряду, а народники – в другом. Я же знаю, что Белинский просил его похоронить рядом с его приятелем Языковым, а Тургенев просил, чтобы его похоронили рядом с Белинским, и что Тургенев и Салтыков-Щедрин друг друга ненавидели. В результате мы видим, что никакого Языкова нет и в помине, что Тургенев и Салтыков-Щедрин должны смотреть друг на друга, потому что так гораздо красивее: мол, два классика рядом, а Гончаров, который тоже здесь, потому что тоже классик, на самом деле был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Вот лежит плита, и написано «Иван Иванович Панаев» – и это тоже неправда. Тут сработала логика глупости: как же, тут Панаева-Головачева, вот Головачев, ее второй муж, а где же первый? Пускай и первый тут лежит, хотя в действительности он упокоился на кладбище Фарфорового завода, там, где теперь метро «Ломоносовская», и мы, поднимаясь на эскалаторе, плывем сквозь призрачный объем его могилы.
Мне нравится, что меня обманывают, потому что меня не обманешь. Здесь есть какое-то внутреннее противоречие, и оно дает многим объектам жизнь.
Наши дети уже не обязаны знать, что Блок не был похоронен на Волковом кладбище. Экскурсоводы станут их уверять, будто на площади Восстания всегда стоял топорно сработанный обелиск, а Красная улица не называлась Галерной, и на ней никогда не было дворца Бобринских. Построят новый «Англетер», совершенно такой же, как был, и напрочь забудут, как его сносили. Но мы-то, пока живы, не забудем.
И как бы ни старались реставраторы и декораторы, а все-таки мы рассказываем друг другу и будем рассказывать нашим детям: все это было не так, это обман и ложь. И это ощущение, что тебя обманывают, а ты не даешься в обман – это тоже мне кажется, очень петербургское ощущение.
Я думаю, что пока Нева течет между своих берегов, пока солнце освещает наш город под этим именно углом, пока вы можете идти по какой-то улице – пусть она называется Воинова или Шпалерная, все равно! – к Смольному собору и, глядя на него, испытывать странное чувство, что где-то впереди, там, на невероятной высоте, существует мир ценностей, значительно более важных, чем ваша собственная жизнь – до тех пор ленинградцы не переведутся в Ленинграде. Хотя все делается для того, чтобы их не было.
Остальное не так существенно: что загазованность, что тесно, что злые лица, что плохой транспорт, все равно...
Так получается, что вдали от этого города человек обязательно тоскует по нему, и никто из нас не хочет умереть в какой бы то ни было другой точке мирового пространства. Потому что как говорит Алиса в «Стране чудес» – «это очень, очень странное место».
Газета «Ленинградский рабочий», 8 марта 1990 г., с.12-13. Наследие: С.Лурье. «Петербургские тайны».
Все права остаются за соответствующими авторами.
Оцифровано исключительно для личных архивов.